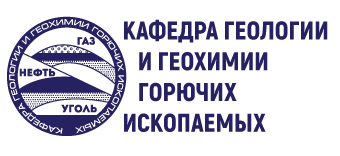Моя связь с Московским Университетом началась в 1935 году, другими словами в 2005 году ей будет целых 70 лет. Я приехала поступать в МГУ на химический факультет после окончания школы в г. Архангельске. Мы были первым выпуском школ-десятилеток. Тогда еще не было выделения «отличников», и все сдавали экзамены на общих основаниях. Конкурс был огромный, как вспоминается, 16-18 человек на одно место.
Я была «убежденный химик» еще с 5 класса. Мы жили в школьном здании около школы №2, где работала моя мама. В этом здании были и химические лаборатории школы, а я вертелась рядом, помогая учительнице, и прониклась любовью к химическим экспериментам. Окончив семилетку, я, конечно, стремилась продолжить образование в химическом техникуме. Но, увы, туда принимали с 16 лет, а мне только-только исполнилось 14. К счастью, проблема решилась тем, что открыли 8-е классы для школ-десятилеток, после чего можно было поступать в высшие учебные заведения. В Архангельске это было сделано только в 4-х школах (по-моему, из 26-ти), и нашей школе повезло. Школа была сначала 20-я, а затем стала 6-я образцовая. В ее музее висит моя фотография, как одной из лучших выпускниц.
И надо сказать, из нашего класса все куда-нибудь поступили — кто в Медицинский архангельский, кто в АЛТИ, тоже в Архангельске, а многие поехали учиться в Ленинград.
В Москву собрались мы втроем, и все в МГУ, и все поступили. Я на химфак, а Женя Попова и Люда Кудрявцева на истфак. Прием шел в три потока, я попала в первый, а подруги — во второй и третий. Поначалу я думала подать заявление в Менделеевский институт, но наш учитель математики меня уговорил идти в Университет потому, что, как он выражался, «у тебя университетские мозги». Что он имел в виду, я не знаю, но я его послушалась.
Мы тогда сдавали семь экзаменов по пяти предметам: письменная и устная математика, сочинение и устный по русскому языку и литературе, физика, история, иностранный язык (я сдавала немецкий). К моему большому удивлению и, конечно, огорчению, отметки получились совсем не те, которые я ожидала. Первой была письменная математика, я выполнила задание первая и быстро выскочила за дверь. Хлопнув дверью, я сообразила, что сделала одну грубую ошибку, но… уже было поздно что-либо изменять. В результате — тройка! Но когда сдавала устно, преподаватель удивился, как я могла допустить такую оплошность при таких, как он выразился «солидных знаниях». В общем, средняя оценка 4, и только она засчитывалась.
И вдруг, по химии, где я была в себе сверхуверена, мне тоже ставят 4. Причину я поняла только тогда, когда уже училась на химфаке. В школьных интерпретациях некоторых химических вопросов были изъяны, что экзаменатор и учел при оценке ответа. А все остальные экзамены, которых я, честно говоря, побаивалась, были оценены на 5, и в конечном итоге я стала студенткой химического факультета МГУ имени Покровского.
Общежитие для младших курсов тогда было в Останкино, где сейчас ВДНХ. Простые двухэтажные деревянные дома, туалеты на улице, комнаты на 4-х человек. Ездили оттуда на трамвае №17, а когда открыли метро, бежали на электричку, которая отходила от станции Покровское-Стрешнево, доезжали до Ленинградского вокзала и оттуда до станции «Охотный ряд». Успевали точно к 9 часам, если поезд не опаздывал.
Вся жизнь затем концентрировалась в центре города. Сначала занятия, а они на химфаке объемные, затем масса других дел и развлечений. Мне повезло, по-видимому, генетически — у меня была очень развита слуховая память. Поэтому я никогда не пропускала лекции и семинары. Не говорю о практикумах — их пропуски очень опасны, попробуй потом догони! Так вот, при такой системе памяти, нужно было только внимательно слушать и записывать в тетрадь основную суть вопроса. Читая потом свой конспект, я как бы слышу голос лектора и восстанавливаю подробности. Конечно, со временем эти способности глохнут, но и теперь, читая письма или даже статью, написанную знакомыми людьми, я слышу характерные для этих люден интонации.
Ну, а вне занятий? Ты впервые в Москве — с ней надо познакомиться. В эти первые годы учебы мы так много ходили по городу, что впоследствии многие истинные москвичи очень отставали от нас по знакомству с различными районами города. Одной из любимых моих прогулок были «визиты» к моему дяде Афанасию (он же — мой крестный отец), который работал на заводе и там же жил в Замоскворечье. Я ходила туда пешком через Красную площадь, и это всегда доставляло мне огромное удовольствие.
Но надо же пользоваться другими, кроме учебы, возможностями университета. Очень скоро я оказалась в сборной команде по лыжам, занималась спортивной гимнастикой, бегала на коньках, была в легкоатлетической группе — бегала и прыгала в длину. Но раньше это было увлечение, развлечение, а не такое, отнимающее все время и всю энергию, как с этим обстоит дело в настоящее время.
Ну, а развлечения? Во-первых, в клуб мы ходили обязательно на каждую новую постановку или встречу. Некоторые участвовали в драмкружке, и в МГУ выпускали очень хорошие спектакли. Кроме того, часто были вечера с участием известных актеров. И, в те времена, были очень распространены танцевальные вечера, поэтому все мы освоили основные виды танцев.
В свободное от учебы, спорта и развлечений время мы иногда собирались дома у Алеши Жасмина, единственного из нашей компании, у которого была собственная комната. Его отчим, В.Я.Климов — знаменитый конструктор по военной части, имел приличную по тем временам квартиру. Он и его жена обычно отсутствовали, а занимавшаяся домашними делами бабушка весьма хорошо нас принимала. Алеша долго жил во Франции и поэтому много нам рассказывал и даже обучал языку. Наша постоянная группа в этих посещениях — я, Юра Михайловский, Олег Стерлигов и Дина Смирнова (Юра впоследствии стал моим мужем). Олег потом прошел всю войну, на которую, кстати, я его провожала, как и Алешу, и после войны вернулся к химии, защитил диссертацию и работал в Академии Наук. Мы были дружны до самой его кончины и продолжаем дружить с его женой до сих пор. Алеша, к сожалению, с фронта не вернулся. Он был ранен и умер в госпитале.
А летом мы всегда куда-то вместе ездили, в так называемые походы, чаще всего на Кавказ, но иногда и в северные края. А зимой ходили на лыжах по Подмосковью. Недавно я встретилась после большого перерыва с Богданом Шахкельдяном (у нас он назывался просто Шах), который тоже бывал в наших летних походах и, как он выразился, «я погрузился в нашу молодость». Надо сказать, что те, кто еще жив из нашего студенческого круга, не потеряли связь друг с другом, насколько это возможно в нашем возрасте. Надя Поршнева, Нина Назарова, Эля Рухадзе, Тоня Шадрина, Ася Щербакова (профессор химфака Ксения Дмитриевна Щербакова) и несколько человек в других городах. Как можно заметить, здесь нет мужских фамилий, по видимому, причина в том сложном для них времени, которое нашему поколению пришлось пережить.
После 2-го курса я занялась еще и альпинизмом. Это было очень интересное дело. Я помню, руководил нашей группой тогда студент 4-го курса Вася Сахаров. Интересно, что впоследствии он вместе с Виктором Лихачевым был призван на работу в наркомат иностранных дел, и когда началась воина, Вася был нашим представителем или послом в Югославии. Так и у В.Сахарова и у В.Лихачева химическое образование отошло в сторону, но общая университетская школа позволила трудиться на новом поприще.
Значок альпиниста до сих пор хранится у меня, напоминая о тех добрых временах, когда жизнь воспринималась только с положительных сторон.
С позиций сегодняшнего дня уже непонятно, как у нас на все это хватало времени. Это с одной стороны. А с другой? Годы 1935-1940-й — сколько в это время в стране было трудностей, трагедий, прошел страшный 1937 год, затем Финская война, подготовка к самым тяжелым событиям нашей истории и т.д. Но, так было, я пишу об этом совершенно искренне. И если трагические события (аресты родственников и др.) кого-то касались лично, это не афишировалось.
Когда мы учились на III курсе, произошло расчленение на «мальчиков» и «девочек». Те студенты, которые были пригодны к призыву, были объединены в военные группы, и для них организовали усиленную военную подготовку, настолько, что в конечном итоге они отстали на целый год. В группах «девочек» были мужчины или прошедшие уже армию, или по каким-то причинам освобожденные от призыва. Встречались мы только на общих лекциях, и для многих пар это была возможность свиданий.
Учеба на химфаке требовала очень много времени для занятий в лабораториях. Начались курсовые работы, для которых обязательной была экспериментальная часть, затем дипломные (они тогда тоже носили другой характер, чем в настоящее время, так как при выпуске более существенное значение имели государственные экзамены, число которых было достаточно велико).
1940 год. Группы «девочек» сдают государственные экзамены и получают дипломы. «Мальчикам» предстоит еще год учебы. Я получила направление в аспирантуру и должна сдавать ряд вступительных экзаменов. Сдаю удачно — принята! Но в итоговом документе написано «аспирантура Академии Наук». Прихожу к А.Н.Несмеянову (он тогда был ректором), а он вдруг говорит: «А в академии в этом году приема нет, там принимают через год. Надо как-то это исправить. Ведь, по-моему, мы принимали Вас в аспирантуру химфака?» В общем, пришлось познакомиться с высшими инстанциями чиновников, были трудности, но и это, в конце концов, разрешилось. Главным оказалось, что мне не нужно общежитие, так как я уже к этому времени была женой москвича и жила на Арбате.
Кто же должен быть руководителем? Мой научный руководитель диплома Роза Яковлевна Левина по каким то причинам не могла, и меня направили к Александру Петровичу Терентьеву.
Подхожу к комнате №20 — резиденции А.П. Слышу какие то голоса. Стучу — вхожу. Стоит А.П. и держит в руках огнетушитель. Вокруг группа не-то студентов, не-то аспирантов. Спрашивают — «Вы по какому вопросу?» — «Да вот, насчет аспирантуры!»
— «Так скажите, пожалуйста, как пользоваться огнетушителем». Я беру в руки этот предмет и громко читаю, что написано в «Правилах пользования» на его стенке. Раздается громкий смех! Смущенно оглядываюсь — что я такое смешное сделала? Оказывается, никто из присутствующих не догадался прочесть правила, написанные на приборе. Все просто вертели его, пытаясь сообразить, как пользоваться этим огнетушителем. «Беру!» — воскликнул Александр Петрович, и с этого дня я стала аспиранткой профессора А.П.Терентьева и постоянной жительницей лаборатории №20. А.П. жил в университетском дворе и по вечерам приходил работать в лабораторию. Часто и я так поступала, и эти вечерние беседы дали мне очень много, наверное, значительно больше, чем всякие лекции и прочитанная литература. Но это все после, а первый год мы занимались подготовкой к кандидатским экзаменам, слушали лекции, писали рефераты.
А в мире уже шли грозные события. Наша страна заключила с воинственной Германией мирное соглашение. Но «понимающие» люди жили в напряжении и не очень верили этому документу.
Очень хорошо помню один эпизод — 13 января 1941 года. Это «старый новый год» и одновременно день рождения моего мужа. Мы этот день и вечер провели у его сестры, которая была женой маршала Г.И.Кулика. За столом я оказалась рядом с Г.К.Жуковым — тогда генералом армии. Шли громкие разговоры о мирном соглашении с Германией, в принятии которого участвовали некоторые, сидящие за этим столом, а Георгий Константинович повернулся ко мне и тихо говорит: «Все эти соглашения ерунда. Мы будем воевать с немцами, и очень скоро. Я, в настоящее время, изучаю немецкую армию больше, чем нашу». Впоследствии, уже после войны, когда у Г.К. были сложности, мы случайно встретились, и я ему напомнила эти слова и их справедливость.
Грянуло 22 июня. Наши «мальчики», к этому времени уже «младшие лейтенанты», начали сдавать государственные экзамены. Было разрешено отложить их призыв в армию до окончания экзаменов и получения диплома. Так и случилось. Ребята получили дипломы и разъехались по воинским частям, многие сразу на фронт. Мой муж получил назначение и должен был ехать в сторону Риги. В этот день я сдавала кандидатский экзамен по философии. Получив квитанцию с оценкой, помчалась на Рижский вокзал провожать мужа на фронт. Уезжали в пригородных вагонах. Попрощались, и поезд двинулся.
Через несколько дней мой муж появился снова в Москве. Оказывается, в районе Ржева их поезд подвергся бомбардировке, и уцелели только два вагона. Оставшихся в живых и не раненых вернули обратно в Москву. В военкомате разобрались, что у мужа высшее образование, и направили его в школу шифровальщиков, которая находилась в Подмосковье.
Теперь немного о себе. Когда началась война, первое, что пришло мне в голову – нужно идти добровольцем. Я хорошо стреляла, у меня даже было первое место на каких-то соревнованиях и мой портрет с винтовкой в руках напечатали в «Комсомольской правде», кажется, в одном из июльских номеров (к сожалению, у меня эта газета не сохранилась, я ее отослала маме в Архангельск, возможно, она еще где-то лежит). Стрелять я стала совершенно случайно. Дело в том, что в годы нашей учебы появился значок ГТО II ступени, и одним из обязательных условий его получения было наличие значка «Ворошиловский стрелок». Пришлось попытаться его получить и оказалось, что у меня достаточно меткий глаз, и цель была достигнута — мы с Диной Смирновой были одними из первых в МГУ, которые его «заработали». Кстати сказать, реакцией на фотографию в «Комсомолке» было несколько писем с фронта с нежными словами. Как говорили друзья-военные, это писали те, кто сидел в штабах в лице писарей, ибо только у них была возможность просматривать газеты и время, чтобы сочинять письма. Ну, это все после, а в первые дни войны я направилась в какую-то комиссию, которая была в одном из зданий МГУ с просьбой взять меня в снайперы. Оказалось, что я не годна для этого, так как стреляю с левой руки (у меня плохой правый глаз), но не левша. Не взяли. Иду туда, где вербуют доноров – оказывается, если у вас была крапивница, вы и для этого не годитесь. Пошла заниматься другими делами, которые тоже относились к военным заботам.
Так случилось, что в это время я оказалась секретарем комсомольской организации химфака. Настоящий секретарь был призван в армию, его заместитель срочно поехала на Украину спасать своих родных, (она была еврейка), и я оказалась во главе (прямо, как у Марка Твена). Собирали группы ребят и отправляли помогать строить оборонные объекты. Те, кто оставался здесь, рыли окопы в районе Голицино. Я тоже принимала в этом участие. А по ночам мы дежурили на крыше дома, где были химические лаборатории, для того, чтобы при необходимости сбрасывать «зажигалки», которые обильно падали при налетах. Моим партнером по дежурству был Миша Прокофьев, в будущем наш министр просвещения. Когда проходил отбой воздушной тревоги, шли в лаборатории пить чай. Сахарин синтезировали сами, и сами же в сушильных шкафах делали шоколадные шарики из какао, которого тогда можно было достать в избытке.
Многое уже забылось, но то, что был общий энтузиазм и стремление принять хоть какое то участие в деле обороны — это несомненно, и все это без всякого принуждения.
Начались ежедневные налеты на Москву. Сначала мы ходили во время налета в метро — к нам на станцию Арбатская, а потом перестали, так как решили, что это бессмысленно. Но быстро поплатились. Дома раздался звонок в дверь, сестра пошла открывать, а в этот момент бомба упала в районе театра Вахтангова и у нас в передней вылетела рама и обрушилась на сестру, очень сильно разрезав ей руку. Оказалось, приехал муж предупредить нас, что надо уходить из Москвы, и он точно сообщит, как и когда это сделать.
А в этот момент он хватает мою Веру, сажает её в машину и везет в скорую помощь на Собачью Площадку. Там ей накладывают 12 швов, и, вся забинтованная, она возвращается домой. Вера в это время была студенткой географического факультета и временно жила у нас. 19 октября собираем два рюкзачка для меня и Веры, её сажают в автобус, а я со слушателями школы шифровальщиков ухожу из Москвы пешком. Мой муж и еще один университетский аспирант-математик Сережа Фомин, окончив курсы шифровальщиков, были оставлены на них преподавателями и шли вместе со всеми. И так, пеший поход до Владимира, затем погрузили в вагоны, и поезд повез нас дальше, пока не знали куда. В Рязани состав остановился и долго стоял, отведенный на запасные пути. Смотрю, бежит моя сестра. Их привезли сюда на автобусе и высадили. Хорошо, что кто-то узнал, что здесь поезд, в котором везут курсантов. Самое смешное, что когда Вера подбежала к нам, первые её слова были: «Тоня, а юбка у тебя есть?» Оказалось, у неё рюкзачок с вещами украли, а одета она была в сатиновые штаны и закутана вместе с раненой рукой шалью. В общем, поехали дальше и, в конце концов, добрались до Лубян. Это село расположено географически на стыке Татарии, Удмуртии и Кировской области. Здесь была организована учеба, преподаватели жили вместе со слушателями, а их семьи снимали квартиры у местных жителей. Я жила в квартире одной очень милой бабушки-татарки, которая совсем не говорила по-русски. Переводчиком был её внук, который учился в 4-м классе и прекрасно владел русским языком. Постоянной работы не было, но иногда меня привлекали делать калькуляционные расчеты в столовой для военных.
Среди преподавателей был Саша Устюменко. Мы очень сдружились с его женой Лёлей. Вместе ходили в лес за грибами, вместе проводили темные вечера. Лёля была беременна и однажды, когда мы гуляли в лесу, у неё началось кровотечение, и я, взявши её на руки, донесла до дому, где ей была оказана медицинская помощь. До сих пор не понимаю, как я смогла это сделать, ведь Лёля даже выше меня ростом. Но, появившаяся на свет в нужное время Галенька, до сих пор для меня близкое существо. Впоследствии она училась в МГУ на кафедре геофизики, а затем всю жизнь работала в Институте Физики Земли. К сожалению ни Саши, ни Лёли уже нет в живых, а дружба наша была постоянна.
Хочется отметить два события. Во-первых, моя сестра, как только у неё зажили раны на руке, стала рваться на учебу в университет. И я повезла её в Свердловск, откуда можно было уехать в Ашхабад, куда был эвакуирован МГУ. В Свердловске в это время были в эвакуации моя свекровь и сестра мужа, и когда мы туда добрались, Веру снабдили одеждой и всем необходимым для того, чтобы добраться до Ашхабада. Случайно встретили еще наших студентов, и я отправила всех вместе на поезде в Туркмению, а сама вернулась в Лубяны.
Пришла зима. Надо сказать, что в тех местах очень сильные морозы, но они переносились довольно легко, так как не было ветра. Утром смотришь в окно — ясно, значит температура выше -40°С, если туман, значит ниже -40°С.
У Сережи Фомина шел последний год аспирантуры, и диссертация была практически готова, тем более что математические диссертации имеют весьма ограниченные объёмы. И он решил ехать её защищать в Казань, где был в это время его руководитель А.Н.Колмогоров. Я поехала вместе с ним. Сначала мы шли на лыжах до какой-то станции, затем на проходящем поезде добрались до Казани, а там и до Казанского Университета. Встретили многих знакомых, которые уже как-то обосновались там. Нас приютили в каком-то общежитии, и вскоре состоялась защита. Всё произошло очень быстро и кончилось удачно — Сереже был присвоен статус кандидата математических наук. Но общая обстановка в городе была очень трудная. Во дворе университета мы увидели лежащий труп. Не помню уже, почему он оказался там, но было немного страшновато.
Питание было в столовой. Как острил мой приятель-химик Веня Патрикеев (на нашем языке Пат), который оказался в Казани и «пас» нас с Сережей, в меню бывает моно-горох или би-горох, в переводе или только гороховая каша, или и каша и гороховый суп.
Довольные всем содеянным, мы вернулись в Лубяны. И тут я начала серьезно задумываться о том, что мне как-то надо выбираться оттуда и начать заниматься своим делом — ведь я была аспирантом химфака МГУ. Весной был выпуск шифровальщиков, и вся эта группа ехала в Москву. Я увязалась с ними. У меня не было билета, и они маскировали меня следующим образом. Как только появлялись контролеры, я лезла на третью (багажную) полку, а кто-нибудь из ребят ложился рядом, благо мои размеры тогдашнего времени это вполне позволяли. Меня предупредили, что без спецпропуска в Москву не пустят. Поэтому я сошла с поезда на станции, откуда уже можно было доехать до Москвы на электричке, и благополучно добралась до дома. Квартира (а это часть коммунальной) оказалась свободна, но прописка ликвидирована, и восстановить её было невозможно. В университете меня взяли на работу, нужно было выполнить договор, по которому требовалось установить причину запаха тиоколовых каучуков, из которых делались пуленепробиваемые баки для бензина, так как от этих запахов у летчиков болела голова, и найти способ устранения этих запахов.
Но опять о прописке. Ректор подписал мне бумагу, что МГУ так нужен этот человек, ну просто необходим и посоветовал идти прямо на Петровку, 38. Чтобы попасть туда в числе первых с утра (а ведь тогда был комендантский час), я ночевала у одной знакомой, которая жила как раз напротив этой главной милиции. И мне действительно удалось попасть к тому лицу, которое ведало пропиской. И вдруг, этот чиновник, посмотрев моё «ходатайство» от ректора, усмехается и дает мне разрешение на прописку. Видя мое удивление, сообщает: «Не думайте, что письмо вашего ректора сыграло какую-то роль. Просто вчера мы получили приказ женам военнослужащих восстанавливать прописку, если она раньше существовала». Но, так или иначе, я снова стала правомочным жителем г. Москвы и могла спокойно работать.
А муж, который и раньше рвался на фронт, получил, наконец, такое право и перед Новым 1943 годом приехал в Москву, чтобы получить конкретное направление, и в начале января уехал на службу в штабе фронта. А у меня остался желаемый мною след и 3 октября 1943 года родился сын — Николай. Роды были легкие, правда, как сказали врачи, слишком быстрые. Родился здоровый ребенок, по всем признакам, но на 3-й день мне не принесли его кормить, и врач не приходила, как я её ни вызывала. Как потом оказалось, она сделала ему вливание лекарства, которое вызвало разрыв сосудов и кровоизлияние под мозговые оболочки. Об этом мне сказала другая врач, как она выразилась, «вопреки врачебным правилам», и посоветовала вызвать профессора из Морозовской детской больницы, что я немедленно сделала, попросив позвонить туда Г.И.Кулика (он в это время был в Москве, так как его жена должна была рожать, что и произошло 20 октября). Послали туда машину и привезли Николая Ивановича Лангового. Он посмотрел малыша, сказал мне диагноз и поинтересовался, в силах ли я ехать с ребенком к ним в больницу. Я, конечно, тут же согласилась, и мы затем целый месяц пролежали в Морозовской больнице. В палате было 6 мальчиков с таким же диагнозом, но из разных больниц. Находясь там, я поняла, какую ошибку совершила врач родильного дома (у некоторых было подозрение, что это намеренное действие и врач считала, что после вливания ребенок умрет), но я думала тогда только об одном — ребенка нужно спасать. Н.И. очень хорошо к нему относился, называл «тёзка», и потом мы с ним встречались целых шесть лет.
Осложнение у Коли было в основном в виде парапареза ног и рук, но руки обошлись быстро, за счет гимнастики, а с 6-ти лет – игры на пианино, а ноги в восьмилетнем возрасте пришлось оперировать. Помню, как при последнем визите к Н.И.Ланговому (он вскоре умер от скарлатины), тот сказал: «Ну, тёзка, наркомпрос у тебя в порядке, а вот наркомпуть подгулял». Действительно, у Коли была необыкновенная память, ну, а как я уже сказала, ноги оперировали, и в школу он пошел только почти с 9-ти лет. Все, что здесь написано, как будто не имеет отношения к университету, но это иллюстрация к тем обстановкам, которые существовали во время войны. Врач, которая так поступила, была уволена. Меня пытались привлечь к известному «делу еврейских врачей» (врач была тоже еврейка), но я категорически отказалась.
Выйдя из больницы, я быстро нашла няню (тогда это было очень просто) и пошла опять трудиться над проблемой «запаха тиоколовых каучуков». Причиной запаха оказались меркаптаны (R-SH) и, кто имел с ними когда-нибудь контакт, знает какой он «приставучий». И как впитывается в волосы и в одежду. Я работала одна в большой химической лаборатории, в основном под тягой, но, несмотря на спецодежду, запах задерживался на мне, что очень не нравилось моему малышу, когда его приносили кормить. Ни о каких походах в другие места кроме дома и университета и речи быть не могло. Закончив эту тему, начали другую, руководил которой Георгий Митрофанович Панченко (потом он много лет работал в Нефтяном институте), связанную с динамикой движения нефти в пористых средах. Так я впервые познакомилась с предметом моих будущих многолетних исследований.
Но в 1944 г. я восстановилась в аспирантуру к А.П.Терентьеву и начала трудиться в моей любимой 20-й. В то время в аспирантуре у А.П. была Лидия Александровна Казицина, с которой потом мы были очень близки до самой ее кончины. За два года я сумела сделать новую работу (тему пришлось поменять, так как для выполнения первой не было нужных условий) и в июне 1946 защитила кандидатскую диссертацию на тему «Дисмутация гидроароматических кетонов» (термин «дисмутация» вместо «диспропорционирование водорода» предложил А.П.Терентьев). Работать пришлось очень интенсивно. К счастью, МГУ тогда находился недалеко от Арбата и сынишку или приносили ко мне, или я бегала ненадолго домой, но все шло как надо. Я уже писала, что 20 октября того же 1943 года у сестры мужа родился ребенок – дочь Наташа. Так случилось, что у меня молока было достаточно, а у Наташиной мамы – мало, и я кормила сразу двоих детей. Зато нас хорошо подкармливали у Куликов в это тяжелое военное время, благо мы жили недалеко друг от друга.
Перед зашитой Александр Петрович предложил мне показать свою диссертацию академику Н.Д. Зелинскому. Дело в том, что в связи с юбилейной датой (85 лет) были опубликованы материалы из домашних архивов академика и в одной из небольших заметок высказывались представления, противоречащие выводам моей работы. Н.Д. согласился посмотреть диссертацию и я, конечно, очень волновалась, когда пошла к нему, для того чтобы услышать его мнение. И на мой вопрос о несовпадении наших с ним выводов он засмеялся и сказал: «Мало ли что приходило мне когда-то в голову, а Вы экспериментально доказали, что я был неправ».
Моими оппонентами были — тогда еще доцент Альфред Феликсович Плате (кстати, зять Н..Д. Зелинского) и профессор Алексей Александрович Баландин (зав. кафедрой органического катализа). Во время защиты они по какому-то вопросу заспорили между собой. Председатель спрашивает меня: «А Ваше мнение какое?» Я машинально ответила: «А я молчу», что вызвало смех в зале. Вот такие мелочи запоминаются на всю жизнь.
После защиты я была распределена ассистентом в городской Педагогический институт к профессору Измаильскому. Можно было остаться на договорных работах в МГУ, но это не давало права на дополнительные льготы на продукты питания, которые давались преподавателям, поэтому пришлось выбрать то, что обеспечивало это право.
Тогда на биологическом факультете Пединститута было химическое отделение, которое базировалось на Погодинке, т.е. мне туда было просто добираться с Арбата. Я читала лекции, вела практические занятия, руководила курсовыми работами, в общем, нарабатывала педагогический опыт. Интересно, что во время поездки в Индию в 1975 г. я купила книгу-гороскоп для моего знака зодиака. Там, с учетом всяких тонкостей вплоть до часа рождения, я прочла о себе: область интересов — химия, область деятельности — учитель, что, как оказалось, совпало с моей биографией.
Окончилась война. Муж в это время был в Калининграде (Кёнигсберге). Туда приехала комиссия по набору слушателей в военную академию. Мужу предложили, и он согласился, думая про себя: «приеду в Москву, а там видно будет». Но, увы, они приехали вечером, а утром всех отправили в учебные лагеря. Другими словами, о карьере химика пришлось забыть и началась военная карьера — учеба в военной академии им.М.В.Фрунзе и т.д. Ну, это уже другой разговор.
В 1948 году у меня родилась дочь Маша. И это позволило мне еще работать в институте, т.к. в 1947 г. химическое отделение закрыли, но мои основные часы были связаны со старшими курсами, это во-первых, а во-вторых, меня не могли уволить, потому что у меня маленький ребенок.. Одна из наших педагогов говорит мне: «Слушай, у меня на даче живет преподаватель с геолого-почвенного факультета МГУ, им очень нужен химик — сходи!»
Вернуться в Университет? Как здорово! Пошла. В 1945 году на этом факультете была создана кафедра «Геологии природного газа», затем она превратилась в кафедру «Геологии нефти и газа». Создатель – профессор Игнатий Осипович Брод. Прихожу, беседую, мы друг другу понравились, и с июня 1949 года я тружусь на этой кафедре, которая после переезда в Новое здание МГУ стала кафедрой «Геологии и геохимии горючих ископаемых» геологического факультета.
В 1949-ом началась подготовка к переезду в новое здание, которое еще только строилось. Наш заведующий кафедрой стал проректором по строительству, и нам приходилось во многом участвовать. Я была назначена председателем комиссии по приему наглядных пособий. Работы выполнялась художниками, как я понимаю, на их изготовление были затрачены большие средства, но, естественно, выполненные неспециалистами, содержали в ряде случаев серьезные ошибки, которые надо было заметить и заставить исправить. В то же время шла обычная работа, сначала только практикумы, а затем и лекции по органической химии. Геохимические курсы вела Вера Николаевна Флоровская. Кроме того, я старалась «образовываться» по геологии, слушала лекции И.О.Брода, Г.П.Горшкова (он был тогда деканом), А.А.Богданова, и, естественно В.Н.Флоровской. Ну и домашних забот было немало. Но тогда были молоды, и сил на все хватало. Муж окончил академию и работал в Генеральном штабе, затем преподавал военную историю в Военном институте иностранных языков.
И.О.Брод приглашал к себе на кафедру химика, имея в виду, что можно будет работать в лабораториях, которые он построил позади здания на Моховой, где помещался факультет. Но по каким-то причинам эти помещения были переданы Геологическому институту, который «жил» на университетской территории. Поскольку появилось решение Сталина о постройке нового здания, с этой потерей быстро примирились.
С 1950 года я стала ездить на геологические практики, обучаться реальной геологии, собирать материалы для выполнения договорных работ, которых на кафедре всегда было в избытке.
Первые серьезные работы были в Дагестане. И.О. Брод — первый, кто открыл там нефтяные залежи, что дало возможность мощному развитию хозяйства этой территории, и там его просто боготворили. Стоило только заявить, что вы от Брода, как вам предоставляли возможность пользоваться геологической информацией, отбирать любые пробы, вести наблюдения. Совершенно свободно мы перемещались по территории Дагестана, и для студентов это были великолепные иллюстрации к аудиторным лекциям. Более красивых и колоритных мест мне больше нигде не приходилось видеть. Как жаль, что все теперь не так!
Повышению моих геологических познаний очень способствовала Людмила Адольфовна Польстер – тогда аспирантка. Бывало, отплывем подальше от берега в Каспийском море, поворачиваемся лицом к суше, и она объясняет, почему так построен тот или другой наблюдаемый участок. Например: «Вот видишь, здесь явление обратного рельефа, вверху впадина, а на глубине вертикальная складка, подняты более глубинные породы…» и т.д. и т.п. Многие бывшие тогда студентами — сейчас профессора и крупные ученые, но связи наши остаются самыми тесными.
1953 год – переезд в Новое здание. А у меня летом рождается еще один сын – Никита, но 1 сентября отпуск кончается, и я вновь приступаю к работе. В свое время я участвовала в проектировке лабораторий, и теперь они в нашем распоряжении. Кафедре проектировался весь 6-й этаж главного здания, должна была появиться новая специализация «биогеохимия» и на нее была даже приглашена Милица Александровна Мессинева, но, к сожалению, все изменилось. Появилась возможность создания новой кафедры – Литологии, заведующим которой намечался академик Н.М.Страхов, который даже прочел курс лекций еще в старом здании (я их прослушала), но по каким-то причинам он затем от этих намерений отказался и в новом здании его уже не было, ну а помещения от нашей кафедры отошли, и в них стал командовать Г.Ф.Крашенинников, а наша биогеохимия приказала долго жить, и М.А.Мессинева в новом здании уже не работала. Но появилось новое направление, которое возглавил Александр Кириллович Матвеев и одна из комнат, которая сначала проектировалась как «весовая», отошла к угольщикам. Отсюда и новое название «Геология и геохимия горючих ископаемых».
В 1956 году я получила звание доцента и через несколько лет разрешение ВАКа быть руководителем аспирантских диссертаций на звание «Кандидата геолого-минералогических наук» (до этого времени я могла быть «соруководителем», сначала с И.О.Бродом, затем и с другими геологами). Пришлось читать и общие и спецкурсы. Все время велись договорные работы, что давало возможность обеспечивать спецпрактики студентов и получать материалы для научной работы дипломников и аспирантов. До 1969 года объектами были в основном Дагестан, Предкавказье и другие южные районы. Затем начались исследования в Западной Сибири и в самых восточных районах России — на Камчатке, Сахалине и Дальнем Востоке.
У меня лично многое оказалось связано с Западной Сибирью. Были и поездки со сбором геологических материалов, отбором проб пород и нефтей, а затем их исследованием. В те времена на местах можно было совершенно свободно ознакомиться с материалами, скопировать необходимые карты и схемы, обсудить на местax полученные данные. В нашей лаборатории (к.617) изучали в основном нефти и частично битумоидную часть пород. Постепенно появлялись и внедрялись новые методы исследования, от изучения группового состава и физических свойств перешли к освоению данных о молекулярном составе. Надо сказать, что на материалах, собранных в те времена, много лет впоследствии выполнялись работы студентов (курсовые и дипломные) и целый ряд работ в практикуме по химии горючих ископаемых. Кое-что сохранилось еще и до сих пор. Когда я приезжала в командировки в Тюмень в ставшие уже трудными времена, мне удавалось добывать образцы у прежних знакомых, дружба с которыми продолжается и до сих пор. Но, конечно, сейчас все поменялось, люди стареют, уходят на пенсию или вообще из жизни, но те добрые времена вспоминаются с радостью и удовлетворением.
Приучали студентов к приемам изучения состава органическою вещества природных объектов, сами пополняли свои знания исследованиями в разных районах и проработкой новых литературных источников. До 1962 года работа кафедры шла под руководством И.О. Брода. Основной тезис этого человека был – главный объект работы кафедры – студент, и все должно быть подчинено интересам этого объекта. Хорошо помню, как однажды в его кабинете раздался звонок из министерства – И.О. приглашают на встречу с министром. И.О. отвечает – нет, в это время я не могу, у меня назначена встреча со студентами. Вот и иллюстрация к его тезису.
И.О. умер неожиданно, 16 июля 1962 года. Я в это время была в Краснодаре и по делам, связанным со сбором материала, и с четырьмя детьми, которых собиралась пристроить в Анапе. Известие о смерти И.О. застало меня в кабинете у главного геолога С.Н.Короткова, кстати, отца нашего студента. Раздался телефонный звонок, и я вижу огорченное лицо, С.Н. поворачивается ко мне: «Умер Игнатий Осипович». Соображаю, что же делать. На улице встречаю знакомого из Дагестана, сообщаю ему о печальном событии. К счастью, он был с машиной и мы, погрузив в нее детей, повезли их в Анапу и там «подбросили» моей знакомой Ирине Делоне (мы с ней вместе учились), которая тоже была с тремя детьми. В поездке со мной была наша студентка-вечерница и моя сотрудница Оля Романова, и она осталась с детьми, а я вернулась в Краснодар и на самолете полетела в Москву. Хорошо, что в Москве догадались прислать телеграмму и меня взяли в самолет вне очереди, ведь тогда с полетами было нелегко. Я пишу обо всем этом для того, чтобы проиллюстрировать внимание окружающих друг к другу, стремление оказать необходимую помощь, что тогда для нас было обычным явлением. Да, кстати сказать, приютила в Краснодаре всю нашу ораву в 6 человек мать знакомого моего мужа, с которым ему приходилось иметь дело во время войны.
Смерть И.О. Брода была огромной потерей и болью для всех. Временно заменял заведующего кафедрой доцент И.В. Высоцкий. Но решили пригласить из Ленинграда друга И.О., с которым они учились в одном институте и были давно знакомы — профессора Николая Брониславовича Вассоевича. И.О. приглашал его и раньше приехать к нам работать, но неожиданная смерть нашего любимого шефа не дала возможности реализовать это приглашение. Мне было поручено возобновить переговоры, уже для должности заведующего кафедрой.
Наши переговоры были долгими. Сидели у него дома, беседовали, курили (оба тогда грешили этим), убеждали друг друга, но, в конце концов, пришли к выводу, что этот переезд неизбежен и должен обязательно состояться. И в конце 1964 года Н.Б. Вассоевич со своей милой женой Ольгой Михайловной переехали в Москву и полностью влились в состав кафедры. Н.Б. в это время очень интересовался вопросами геохимии, и поэтому на это направление было обращено очень большое внимание. Были организованы регулярные научные совещания с приглашением всех ученых и практиков, кто интересовался геохимией горючих ископаемых, в основном, конечно, нефти и газа, но затрагивались и угольные проблемы. Много внимания уделялось кардинальной для нашей науки проблеме – происхождению нефти и формированию скоплений. Дискуссии развернулись по всей стране, вернее даже – по всему миру. Новые методы исследования вещества дали новые материалы, позволяющие по-новому интерпретировать накопленные ранее экспериментальные и природные данные. Стали выходить книги, в основном за рубежом. В советской литературе в это время публиковались главным образом статьи в журналах, материалы конференций. Работы кафедры достаточно широко использовались, по материалам геохимических исследований были защищены многие кандидатские и ряд докторских диссертаций.
Очень интересным событием в делах кафедры были организованные тогда обменные практики. Мне довелось пять раз быть руководителем практик Чехословакия — СССР. 10 наших студентов с двумя преподавателями отправлялись в Чехословакию, а потом к нам в Союз приезжала группа из Пражского университета, и мы совершали с ними поездки по нашим регионам. На мне, как руководителе практики, были все организаторские функции, но, конечно, я принимала участие и во всех экскурсиях. День был весьма насыщенным. Я поднималась обычно в 5 часов утра, чтобы проверить подготовку к проведению намеченных маршрутов, организации питания и т.д. Затем был «рабочий день» на ногах, ну а вечером часто костры с местными студентами. В первые годы вся организация была очень простая. Нам выделялся постоянный автобус, и поездки к местам геологических маршрутов осуществлялись очень легко, часто вместе с чешскими студентами. Ночевали в местечке Любляны, где была университетская база, или в помещениях туристских домов отдыха. В последних моих поездках уже приходилось ездить и на электричках и на другом местном транспорте. Как посмотришь сейчас дневники, которые тогда заполнялись, так вспоминаешь, как много мест мы посетили. Тем более, что когда я приезжала не в первый раз, мои, возникшие уже, чешские друзья даже меняли маршруты, чтобы побывать в местах, которые я раньше не видела. У моей племянницы Наташи (молочной сестры моего сына) муж работал в Словакии, и мне удавалось посетить её в Братиславе, видеть, как растет её сынок Петя, погулять с ней по городу.
Чешские группы, приезжающие к нам, я, как правило, тоже сопровождала. А показывали им очень много. Обязательно Крым, Кавказ, конечно Подмосковье и даже Среднеазиатские республики — были в Алма-Ате, Ташкенте. Это позволило мне также очень многое увидеть, хотя в организационном смысле было немало трудностей. Несмотря на то, что планы практик были согласованы, все транспортные переезды заранее оговорены, на местах не всегда было так, как ожидали, но в конечном итоге все улаживалось. Мне приходилось иногда быть и просителем и проводником и поваром, но жизненный опыт выручал, и сейчас эти сложности вспоминаются только с юмором. Эти практики прекратились на несколько лет и вновь возобновились уже только с Чехией. Они приезжают к нам в июле, а наши к ним только в конце августа.
В 1982 году не стало Николая Брониславовича Вассоевича. Когда это случилось, мы с А.Я. Архиповым были на совещании в Бугульме, быстро собрались и успели вернуться и присутствовать на похоронах. Так уж в жизни случилось, что и И.О. и Н.Б, ушли из жизни тогда, когда меня не было в Москве.
На заведывание кафедрой в мае 1985 года был приглашен профессор Владимир Владимирович Семенович. Он и раньше был членом Ученого совета факультета, и мы были хорошо знакомы. В.В. до этого занимал должность главного геолога по нефти и газу в Мингео СССР.
Уже после смерти В.В Семеновича в конце 2003 года в сборнике «Геология – жизнь моя» (выпуск 10) появилась его обширная работа «Забота наша такая – жила бы страна родная», в которой подробно описано развитие исследований и практических работ по поискам и разведке нефтяных и газовых месторождений в нашей стране. Перед статьей дана краткая биография автора, а в самой статье – подробное описание всех условий его жизни, которые очень характерны для того исторического периода (1920 -2003 гг.).
В.В. очень быстро вошел в коллектив кафедры, его огромный опыт сказывался и на содержании лекций и в помощи при проведении договорных и исследовательских работ. Сложности, начавшиеся с 80-х годов прошлого века в делах государства, очень сказались и на условиях работы кафедры. Появились трудности в сборе материалов для студенческих и аспирантских работ, и конечно, в проведении научных исследований более общего значения. В.В. помогал всем, используя свои прежние связи, и сам активно участвовал в университетских мероприятиях. Но когда ему исполнилось 70 лет, он решил передать должность заведующего кафедрой профессору Борису Александровичу Соколову, выпускнику геологического факультета и ранее уже бывшему заместителем у Н.Б. Вассоевича. В.В.Семенович остался на кафедре в должности профессора, кем и оставался до своей кончины, читая ряд курсов и консультируя дипломников и аспирантов.
Б.А.Соколов сначала был студентом нашей кафедры, но затем был переведен на кафедру геофизики, которую он и окончил. Но в аспирантуру он снова вернулся к любимым нефти и газу под руководством И.О.Брода. Я помню, как была в командировке одновременно с ним, аспирантом, в Грузии и как он помогал мне знакомиться с геологией этого района. Даже удалось собрать там геохимические материалы и впоследствии опубликовать статью. Б.А. был очень активным человеком. Он постоянно занимал разные ведущие должности, от партийных до административных, и последние 12 лет был деканом геологического факультета. На кафедре ему очень помогал А.Я.Архипов, тоже выпускник кафедры.
В настоящее время я пока продолжаю работать по мере сил, консультирую, читаю обобщающий курс «Углеводородные растворы», постепенно передаю чтение других курсов ученикам, поначалу присутствуя на их лекциях. Мы выпустили второе издание учебного пособия по курсу «Химия горючих ископаемых» и второе же издание практикума по этому предмету. Приходится только сожалеть, что сотрудники лаборатории, в прошлом многие учившиеся на вечернем факультете и работавшие у нас, и просто выпускники давних лет, все уже бабушки (в прямом смысле), а молодежь сейчас трудно остается на постоянную работу из-за материальных трудностей.
Но будем надеяться, что времена изменятся, и геохимия горючих ископаемых вновь займет достаточно важное место и в образовании и в хозяйстве страны, где она сейчас потеряла прежнее заметное значение. Кафедра сейчас переживает трудные времена. В январе этого (2004) года ушел из жизни Борис Александрович Соколов, временно (до избрания) заведует кафедрой наш выпускник член-корр., профессор Михаил Константинович Иванов, специалист по морским геологическим исследованиям, широко известный в мире и, конечно, стремящийся соответствующим образом преобразовать кафедру, что в настоящее время дается с большим трудом. Все, кто работает на кафедре, преданы ей и будем надеяться, что все будет хорошо!